Год великого перелома кому он был нужен
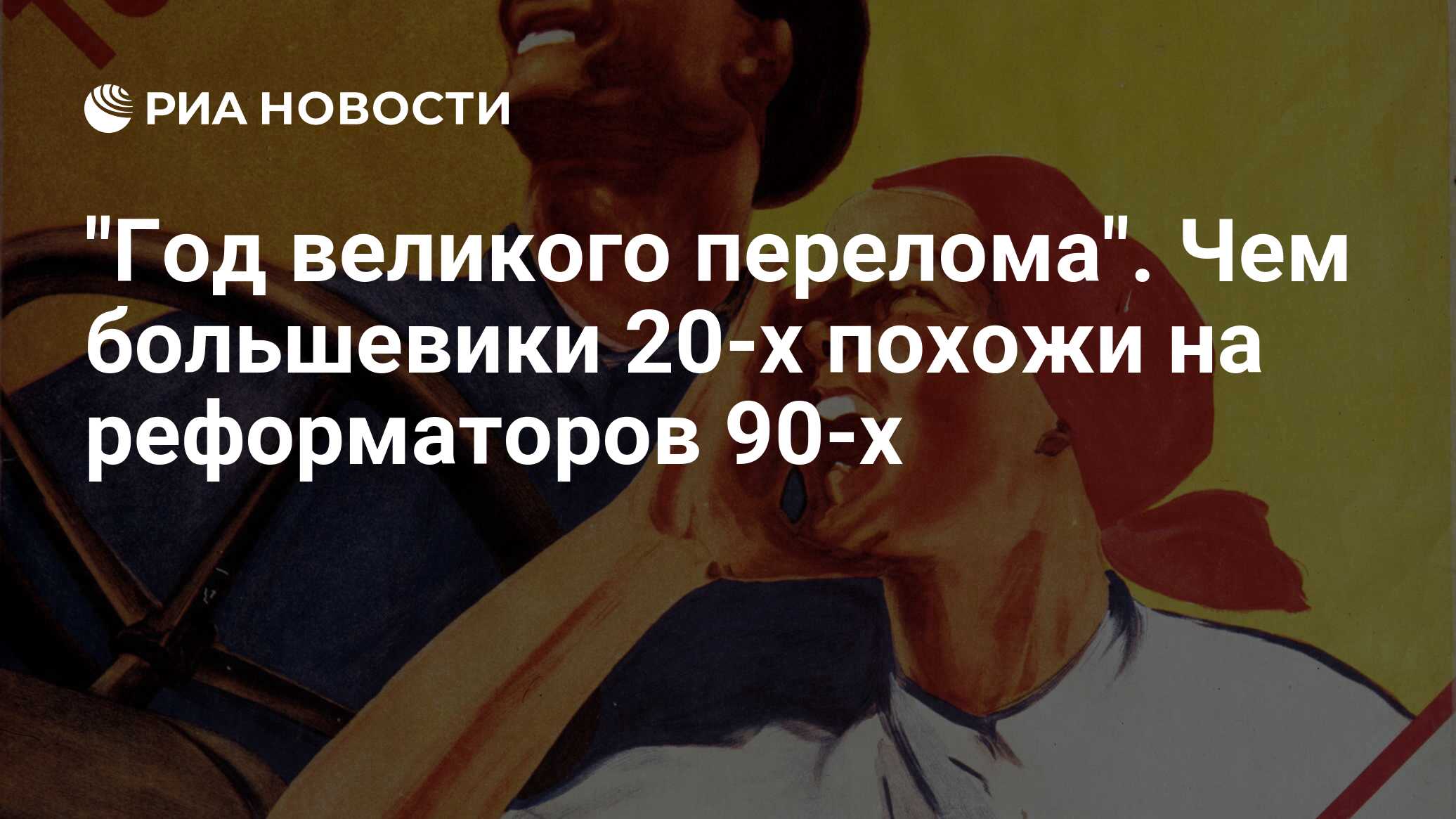
https://ria.ru/20191013/1559681093.html
«Год великого перелома». Чем большевики 20-х похожи на реформаторов 90-х
Колхозы, паспорта, гиганты индустрии, а вместе с тем хлебные карточки и массовый голод — когда в 1929-м году Иосиф Сталин объявил «Год великого перелома», жизнь РИА Новости, 13.10.2019
2019-10-13T08:00
2019-10-13T08:00
голодомор на украине
юрий жуков
владимир ленин (владимир ульянов)
совет федерации рф
москва
сша
иосиф виссарионович сталин – миф в квадрате
общество
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/74/1559687406_0:352:2047:1503_1400x0_80_0_0_c0e49ca804f0661ba933dc0fe4152f01.jpg
niknikza
«Технически, революционеры того времени, большевики в том числе, разрушили страну…» _Коммунисты НЕ большевики. Страну разрушали революционеры, а востанавливали коммунисты. И коммунисты за 15 ЛЕТ превратили разрушенную революционерами (и большевиками в том числе) страну в сильнейшую военную и экономическую державу. А что сделали за 19 лет нынешние «либералы», кроме слияния олегархов с чиновничеством и вывоз за рубеж триллионов долларов?
17
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2019
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/74/1559687406_0:352:2047:1503_1400x0_80_0_0_c0e49ca804f0661ba933dc0fe4152f01.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155968/74/1559687406_0:56:2047:1591_1400x0_80_0_0_9b71a0053f7e62116e8ce33a745ea7cd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155968/74/1559687406_309:369:1791:1851_1400x0_80_0_0_944618287bf5267967c29d334be7f583.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голодомор на украине, юрий жуков, владимир ленин (владимир ульянов), совет федерации рф, москва, сша, иосиф виссарионович сталин – миф в квадрате, общество
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Колхозы, паспорта, гиганты индустрии, а вместе с тем хлебные карточки и массовый голод — когда в 1929-м году Иосиф Сталин объявил «Год великого перелома», жизнь на «одной шестой части суши» действительно кардинально изменилась. Строились заводы и фабрики, тысячи молодых людей из деревень перебирались в города и превращались в квалифицированных рабочих, введено всеобщее начальное образование. Параллельно разворачивались политические репрессии, людей вычищали с предприятий и из учреждений за «неправильное» социальное происхождение. О противоречивом наследии первой пятилетки в СССР — в материале РИА Новости.
Спор о темпах
Третьего ноября 1929-го Сталин опубликовал статью к двенадцатой годовщине Октябрьской революции. Ее заголовок «Год великого перелома» дал название всей эпохе — первой пятилетке, в течение которой советская власть переделывала жизнь страны. Генсек провозгласил «решительное наступление социализма на капиталистические элементы города и деревни».
Этот год подвел итог многолетним дискуссиям о том, как дальше должен развиваться СССР. О том, в какие сроки и какой ценой проводить перестройку экономики страны, верхушка партии спорила все 1920-е.
«Достаточно посмотреть на состояние СССР в 1920-х, чтобы прийти к выводу о необходимости восстановления индустрии, — рассказывает кандидат исторических наук Михаил Диунов. — После революционного хаоса и Гражданской войны та промышленная база, что была создана царским правительством — а она вполне соответствовала роли великой державы, — или была разрушена, или в значительной мере пришла в упадок. Советский Союз этого времени — страна третьестепенная».
Старт индустриализации в СССР совпал с так называемой мировой Великой депрессией, которая началась с обвала на биржах США в октябре 1929-го. Промышленность — Челябинский и Сталинградский тракторные заводы, ГАЗ, Магнитку и многое другое — Стране Советов помогали создавать американские и немецкие специалисты. Так, фирма Альберта Кана из США с 1929-го по 1932-й спроектировала свыше пятисот промышленных объектов.
Диунов называет мировой кризис «настоящим подарком для советского руководства». «Американский и европейский бизнес, до этого с подозрением посматривающий на коммунистов, теперь был готов работать с большевиками, ведь они приносили неплохую прибыль, — объясняет историк. — Спрос отсутствовал, рынок сокращался, и для бизнеса это была просто находка. В значительной степени плоды первых двух пятилеток — заводы, построенные под ключ американскими и немецкими специалистами. Первое время немалая часть инженерного состава там работала по найму из-за рубежа, так как Россия после революции утратила систему подготовки квалифицированных кадров».
Где взять деньги
За ускоренные темпы индустриализации выступал Лев Троцкий, а Сталин и Николай Бухарин его критиковали. Но в 1927-м Троцкого выгнали из партии, а в стране случился кризис хлебозаготовок. И Сталин занял противоположные позиции, обрушившись с критикой на Бухарина.
За строительство заводов надо было платить. Тогдашний Советский Союз был аграрной страной. На внешние рынки, чтобы выручить валюту на покупку станков, «государство рабочих и крестьян» поставляло преимущественно сырье. Деньги предполагалось получить в том числе и от «правильной организации» сельского хозяйства, загнав крестьян в колхозы. Аграрные объединения должны были работать эффективнее множества мелких дворов. Плюс индустриализация обеспечивала село техникой. Но на практике это обернулось массовым голодом начала 1930-х в Российской СФСР, Украинской и Белорусской ССР. В апреле 1933 года партия решила прекратить экспорт зерна из-за падения цен на него на внешних рынках, а также для обеспечения посевной кампании.
Историк Олег Хлевнюк, много писавший о сопротивлении деревни коллективизации, утверждал: «В начале 30-х произошла настоящая крестьянская война, о чем мы, историки, не знали раньше».
Проблемой коллективизации занимается доктор исторических наук, бывший член Совета Федерации и эксперт Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России Виктор Кондрашин. Он пришел к выводу, что массовый голод в деревне «был результатом политики, проводимой сверху». Но концепция «геноцида голодомором» этнических групп «не выдерживает критики». «Здесь нет никакой науки, это чистая политика», — говорит историк.
Возвращение паспортов
Требовалось повысить производительность не только «реакционных» сельских масс, но и рабочих. Правительство проводило так называемые оргнаборы: кадры промышленных предприятий пополнялись выходцами из деревни. Государство широко использовало и труд заключенных.
Уже имеющихся квалифицированных рабочих и руководителей предприятий решили дополнительно мотивировать. В 1930-м Центральный исполнительный комитет и Совнарком издали постановление о «плановом» перераспределении рабочей силы. То есть вместо «невидимой руки рынка» — командный метод.
В 1920-е советские рабочие как класс-гегемон в своем государстве отвыкли от жесткой трудовой дисциплины. В 1929-м правительство отмечало распространенность таких видов систематических нарушений, как «пропуски по неуважительным причинам, (…) пьянство на производстве, сон на работе, проявления хулиганства, искусственное снижение производительности труда, порча материалов, машин и оборудования, оскорбления и избиения специалистов». В 1932-м вышло и постановление об увольнении за прогулы. Внедрялось и стимулирование с помощью премий, ударники поощрялись материально и морально.
В том же 1932-м ввели паспорта. Основатель первого в мире государства рабочих и крестьян Владимир Ленин критиковал паспортную систему как «надругательство над народом», но государству в ходе индустриализации надо было контролировать население.
Из тех же лет родом и централизованное распределение товаров — в 1929-м вернулись карточки на продукты (была свернута либеральная к частнику «новая экономическая политика» — НЭП). Страна нуждалась в квалифицированных кадрах, государство, оставив эксперименты с обучением, ввело всеобщее начальное образование, в городах — обязательную семилетку.
«Первая пятилетка была новым буйством революционной практики, повторением красного террора. Конец 20-х, начало 30-х — время политических процессов: «шахтинское дело», дело Промпартии, дело военных «Весна». Ликвидировали и вычищали так называемых бывших, разгромили Академию наук, — перечисляет доктор исторических наук Сергей Волков. — А что касается решений в области экономики, то основной вопрос 20-х, если упрощать: что кончится раньше — НЭП или советская власть. Понятно, что советская власть приняла единственно верное для себя самой решение и прикончила НЭП».
В эпоху «великого перелома» происходят события, описанные Ильфом и Петровым в «Золотом теленке». Авторы рассказывали о переменах легко, персонажи и ситуация казались читателям забавными. Реалии того времени — Турксиб, обличение «летуна» инженера Талмудовского, коммунальный быт, нехватка товаров — составляют фон повествования. Хотя некоторые явления, например чистка в советских учреждениях, были для современников не комическим, а трагическим событием. Но власть так строила новое общество.
Вычищались люди «неправильного» социального происхождения и даже те, кто просто состоял в других партиях и фракциях, кроме большевистской. Волна чисток прошла по всей стране, тогда оформилась концепция набора в учреждения, в том числе и образовательные, по классовому признаку. «Бывшие» потеряли возможность дать своим детям даже среднее образование», — описывает Волков совсем не смешные реалии конца 20-х — начала 30-х.
Несколько лет проводились эксперименты с календарем. Вместо привычной семидневной недели была введена пятидневка — по замыслу реформаторов это должно было позволить заводам работать без остановки. На практике это создавало много неудобств, советская власть вернулась к традиционной неделе.
Российский историк Елена Осокина описала еще один путь финансирования индустриализации. Советское правительство на рубеже 20-30 годов решило пополнить золотовалютные резервы страны. К тому времени государство рабочих и крестьян потратилось на поддержку мирового коммунистического движения и на закупки продукции за границей. И власть пошла внутри страны рыночным путем: открыла сеть магазинов «Торгсин», где граждане могли приобретать продукты и товары в обмен на валюту и золото. «Торгсин» стал полноводной золотой рекой, которая позволила советскому правительству получить средства на индустриализацию», — отмечает Осокина. Сеть «Торгсин» — в основном в обмен на продукты — добыла в 1930-х из запасников граждан на строительство промышленности эквивалент 220 тонн чистого золота.
«Жить стало лучше…»
После «великого перелома» страна изменилась, хотя не все заявленные показатели были достигнуты. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории РАН Юрий Жуков заочно полемизирует со своим коллегой Михаилом Диуновым. По мнению Жукова, Великая депрессия, наоборот, помешала руководству СССР выполнить задачи пятилетки. «Первоначальный план был огромен, его можно было выполнить за десять-пятнадцать лет, но когда его принимали, еще не было кризиса. Анастас Микоян — тогда нарком торговли СССР ставил на то, что мы оплатим поставки выручкой от внешней торговли. А что мы тогда экспортировали? Нефть, бензин, лес и пиломатериалы, пушнину и золото, даже рога и копыта — да, рога и копыта, как в романе у Ильфа и Петрова, еще зерно. Но когда Советский Союз приступил к выполнению плана, на весь мир обрушился невиданный экономический кризис. Никто не хотел ничего покупать, все хотели продавать. И мы начали покупать в долг, в кредит то, что нам было так нужно. Это заставило частично свернуть план — доделать смогли только то, что прошло хотя бы нулевой цикл строительства», — объясняет историк причины корректировки показателей первой пятилетки.
«Те, кто предлагал все свернуть и бросить эту затею — например Алексей Рыков, председатель Совнаркома, — ушли в 1930-м в отставку. А люди трудились, это был массовый порыв. В результате мы создали индустрию, которая вывела нас на второе место в мире по производству стали и чугуна, а это дало возможность строить автомобили, трактора и самолеты, — продолжает Жуков. — Во второй и начале третьей пятилетки мы смогли нарастить промышленную мощь, позволившую выдержать нападение Германии. Благодаря энтузиазму советских людей у нас были танки, снаряды и пушки. Без первой пятилетки не видать бы нам победы в 1945-м».
Первую пятилетку СССР завершил досрочно, в 1933 году. Сталин высказал мнение, что в последующие годы нет необходимости так подхлестывать и подгонять страну. «В результате успешного выполнения пятилетки нам удалось уже поднять обороноспособность страны на должную высоту», — оценил работу партии генсек.
«Страна Муравия»
Следующая пятилетка была уже другой. «Жить стало лучше, жить стало веселее», провозгласил отец народов в 1935-м на совещании стахановцев — энтузиастов, многократно перевыполнявших нормы производства. А в следующем году советский лидер объявил, что социализм в основном построен, победив в отдельно взятой стране. Но споры о том, чем же стали для страны годы «великого перелома» и насколько оправданны были жертвы, ведутся до сих пор. Что двигало большевиками — железная необходимость и расчет или догмы «единственно верного учения»?
Эпоха «великого перелома» неоднозначно воспринималась и современниками, и их потомками. Поэт Александр Твардовский написал в 30-х посвященную коллективизации «Страну Муравию». «Муравия», как объяснял уроженец Смоленщины Твардовский, — страна «вековой мужицкой мечты». Главный герой поэмы, обойдя все государство, возвращался в колхоз.
Позднее, в хрущевскую оттепель, в другой поэме, «За далью — даль», автор поставит 1930 год в один ряд с 1941-м и напишет про «пустопорожние трудодни» крестьян. Твардовский, рассказывая о противоречиях первых десятилетий советской власти, подвел такой итог:
«И все от корки и до корки,
Что в книгу вписано вчера,
Все с нами — в силу поговорки
Насчет пера
И топора…»
Историк Сергей Волков считает, что все кампании советской власти были продиктованы не столько прагматическими соображениями, сколько идеологическими. «Лидеры партии говорили, что самостоятельное крестьянство ежедневно порождает капитализм, что крестьянство вообще реакционно. Решительным наступлением эту политику большевики назвали не просто так — они не могли поступиться тут ни идеологией, ни практикой», — говорит он.
Волков отмечает, что большевики закрывали глаза на любые ошибки и перегибы, потому что исповедовали принцип «В главном мы правы: социализм эффективнее капитализма». «Практика большевистской партии была всецело подчинена идеологии. Если на пути в светлое будущее идет что-то не так, например, падают сборы зерна или люди голодают, — это ничего, это временные трудности. Ведь когда наступит социализм, будет все здорово. Надо просто приближать победу социализма, после нее все проблемы рассосутся сами собой», — излагает ученый представления большевиков.
Он добавляет, что история повторилась в 90-х — тогда преобразования в стране проводились с таким же большевистским жаром. «Это неудивительно — те, кто проводил тогда «рыночные» реформы, были выходцами из той же партии, действовали точно так же. У них тоже была убежденность в том, что можно жертвовать экономическими интересами людей, реальной экономикой ради правильной теории. Ведь правильная теория, несомненно, принесет счастье!» — иронизирует историк.
Источник
 êîíöå 20-õ ãîäîâ ñòðàíà ñòîëêíóëàñü ñ ðÿäîì ñåðü¸çíûõ íàðîäíîõîçÿéñòâåííûõ ïðîáëåì, òàêèõ êàê íèçêàÿ òîâàðíîñòü êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ, íåóñòîé÷èâîñòü ñâÿçåé ìåæäó ïðîìûøëåííûì è àãðàðíûì ñåêòîðàìè ýêîíîìèêè, àãðàðíîå ïåðåíàñåëåíèå è ò.ä.
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÂÊÏ (á) Ñòàëèí ñ÷èòàë ñàìûì îïòèìàëüíûì ñïîñîáîì êîëëåêòèâèçàöèþ ñ/õ-âà, ò.å. ñîçäàíèå â äåðåâíå êðóïíîãî îáùåñòâåííîãî ñåêòîðà ïðîèçâîäñòâà ñ/õ ïðîäóêòîâ, íà îñíîâå îáúåäèíåíèÿ åäèíîëè÷íûõ õîçÿéñòâ â êîëëåêòèâíûå õîçÿéñòâà (êîëõîçû).
 1927 ãîäó áûë ïðîâîçãëàø¸í êóðñ íà êîëëåêòèâèçàöèþ. Äëÿ óñèëåíèÿ ðóêîâîäñòâà Äîíà è Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ñþäà áûë íàçíà÷åí À.À. Àíäðååâ (1895-1971 ãã.) Àíäðåé Àíäðååâè÷ ó÷àñòíèê ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé â Ïåòðîãðàäå.  20-õ ãîäàõ îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ïðîôñîþçîâ.  19271930 ãã. ðóêîâîäèë Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì êðàéêîìîì ïàðòèè. À.À. Àíäðååâ îòêðîâåííî çàÿâèë â ìàðòå 1928 ãîäà, ÷òî «áåç îðãàíîâ ÎÃÏÓ êðàé ïðîïàë áû, ò.ê. ó íàñ õëåá çàãîòîâëÿëî ÎÃÏÓ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïàðòèè, ÷åì íàøà êîîïåðàöèÿ».
 ïåðâûå ìåñÿöû 1928 ãîäà â êðàå èç ÷èñëà îñóæäåííûõ çà ñîïðîòèâëåíèå õëåáîçàãîòîâêàì áûëî 739 êóëàêîâ è 1535 ñåðåäíÿêîâ è áåäíÿêîâ. Áûë ðàçîáëà÷¸í öåëûé ðÿä òàê íàçûâàåìûõ «êóëàöêèõ ãðóïïèðîâîê». Âëàñòè ñîçíàòåëüíî øëè íà îáîñòðåíèå ñèòóàöèè, îáîñíîâàííî íàäåÿñü íà âûÿâëåíèå âñåõ ïîòåíöèàëüíûõ è ÿâíûõ ïðîòèâíèêîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâèé ïî ïåðåõîäó ê ñïëîøíîé êîëëåêòèâèçàöèè. Èìåííî òîâàðíîå õîçÿéñòâî, ýêñïîðòèðóåìîå çà ãðàíèöó âìåñòå ñ äðóãèì ñûðü¸ì, îáåñïå÷èâàëî âàëþòíûå ñðåäñòâà äëÿ ïîêóïêè ñòîëü íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ.
Ê íà÷àëó íîÿáðÿ 1929 ãîäà 21% âñåõ èíäèâèäóàëüíûõ õîçÿéñòâ íà Äîíó áûëè âîâëå÷åíû â êîëõîçû. Íî îñíîâíàÿ ÷àñòü êàçàêîâ è êðåñòüÿí, îñîáåííî òàê íàçûâàåìûõ «êðåïêèõ õîçÿåâ», îòíþäü íå áûëà íàñòðîåíà, äîáðîâîëüíî îáúåäèíÿòüñÿ â êîëëåêòèâíûå õîçÿéñòâà.
5 ÿíâàðÿ 1930 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÂÊÏ(á) «Î òåìïå êîëëåêòèâèçàöèè è ìåðàõ ïîìîùè ãîñóäàðñòâà êîëõîçíîìó ñòðîèòåëüñòâó». Îíî îòíîñèëî Ñåâåðíûé Êàâêàç, à, ñëåäîâàòåëüíî, è äîíñêèå îêðóãà, ê âàæíåéøèì çåðíîâûì ðàéîíàì ñòðàíû, êîëëåêòèâèçàöèÿ êîòîðûõ äîëæíà áûëà çàâåðøèòüñÿ ê îñåíè 1930 ã.
Ýòè óñòàíîâêè ïðåäîïðåäåëÿëè ôîðìû è ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ êîëëåêòèâèçàöèè: ñíà÷àëà ïîïóëèñòñêàÿ ïðîïàãàíäà, çàòåì çàïóãèâàíèå óãðîçîé ðàñêóëà÷èâàíèÿ, íàêîíåö, ñòèìóëèðîâàíèå êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà êóëàêîâ, ïóò¸ì ïðåìèðîâàíèÿ èíôîðìàòîðîâ èç áåäíîòû.
Íà Äîíó ïîëèòèêà ëèêâèäàöèè êàçà÷åñòâà êàê êëàññà áûëà ñîïðÿæåíà ñ îòêðîâåííî àíòèêàçà÷üèìè àêöèÿìè. Ïðèíàäëåæíîñòü ê êàçà÷åñòâó, îñîáåííî ó÷àñòèå â Ãðàæäàíñêîé âîéíå íà ñòîðîíå áåëûõ, ìîãëè ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðàçðÿä êóëàêîâ è «ïîäêóëà÷íèêîâ», ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèÿì.  ôåâðàëå- ìàðòå 1930 ãîäà â îêðóãàõ Äîíà áûëî ëèêâèäèðîâàíî 13-14 òûñ. êàçàöêèõ è êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ, îòíåñ¸ííûõ ê êóëàöêèì, ÷òî ñîñòàâèëî 3 % âñåõ õîçÿéñòâ Äîíà.
Ê êîíöó ÿíâàðÿ 1930 ãîäà 65,5 % êàçà÷üèõ è êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ Äîíà áûëè âîâëå÷åíû èëè çàãíàíû â êîëõîçû. Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ïðèíóæäåíèÿ, ïîëèòèêà ðàñêóëà÷èâàíèÿ, îðãàíèçàöèîííî- õîçÿéñòâåííàÿ íåðàçáåðèõà, öàðèâøàÿ â íàñïåõ ñêîëî÷åííûõ êîëõîçàõ, íå ìîãëè íå ïîðîäèòü ñîïðîòèâëåíèå êðåñòüÿí ïðîöåññó ñïëîøíîé êîëëåêòèâèçàöèè. Ïîêàçàòåëüíûå ìàññîâûå âûñòóïëåíèÿ êðåñòüÿí è êàçàêîâ ïðîèçîøëè â Ñàëüñêîì, Äîíåöêîì è äð. îêðóãàõ çèìîé 1930 ãîäà.  õîäå ýòèõ âûñòóïëåíèé âûäâèãàëèñü ëîçóíãè «Çà ñîâåòñêóþ âëàñòü áåç êîììóíèñòîâ è áåç êîëõîçîâ». Ïîäîáíûå âûñòóïëåíèÿ ñòàëè ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êðåñòüÿíñêîãî ïðîòåñòà ïî âñåé Ðîññèè.
Èíôîðìàöèÿ î òàêîé ðåàêöèè êðåñòüÿíñòâà ïîáóäèëî áîëüøåâèñòñêîå ðóêîâîäñòâî ïðèáåãíóòü ê ìàí¸âðó.  ìàðòå 1930 ãîäà ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ È. Ñòàëèíà «Ãîëîâîêðóæåíèå îò óñïåõîâ» è Ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÂÊÏ(á) «Î áîðüáå ñ èñêðèâëåíèÿìè ïàðòëèíèè â êîëõîçíîì äâèæåíèè», â êîòîðûõ îñíîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåñòóïíûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè êðåñòüÿíñòâà áûëà ëóêàâî âîçëîæåíà íà ìåñòíûå êàäðû. Êðåñòüÿíå è êàçàêè íàèâíî ðàñöåíèëè îïóáëèêîâàííûå äîêóìåíòû êàê ñâèäåòåëüñòâî îòêàçà âåðõîâ îò ïîëèòèêè ñïëîøíîé êîëëåêòèâèçàöèè. Íà÷àëñÿ ìàññîâûé âûõîä èç êîëõîçîâ. Çèìîé 1930-31 ãã. áûë ðàçâ¸ðíóò íîâûé ýòàï ñïëîøíîé êîëëåêòèâèçàöèè. Ê âåñíå 1931 ãîäà â êîëõîçû Äîíà «êíóòîì è ïðÿíèêîì» áûëî âîâëå÷åíî 80,5% êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ, ÷òî ïîçâîëÿëî ñ÷èòàòü ñïëîøíóþ êîëëåêòèâèçàöèþ çàâåðø¸ííîé.
Òåïåðü ÷òî óäàëîñü óçíàòü î êîëõîçíîì ñòðîèòåëüñòâå â ñò. Ñòàðî÷åðêàññêîé. Ýòî â îñíîâíîì ñîáèðàòåëüñêàÿ ðàáîòà ñðåäè æèòåëåé ñòàíèöû è âîñïîìèíàíèÿ îäíîãî èç ïåðâûõ êîìñîìîëüöåâ Ìàò¸êèíà Â.Ä. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè â ñòàíèöå áûë ñîçäàí ðåâêîì. Ïåðâûì åãî ïðåäñåäàòåëåì ñòàë ñòàíè÷íèê, ó÷àñòíèê ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû è îáîðîíû Ïîðò-Àðòóðà, ïîëíûé ãåîðãèåâñêèé êàâàëåð Ñòðåïåòêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷. Âîåâàë îí è íà ïîëÿõ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Ýòî, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûé, êàçàê ñòàíèöû, êòî àêòèâíî ïîääåðæàë Ñîâåòñêóþ âëàñòü. Ê ýòîìó âðåìåíè â ñòàíèöå îáîñíîâàëèñü íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà íåñêîëüêî ÷åëîâåê, ó÷àñòâîâàâøèõ â Ãðàæäàíñêîé âîéíå â ñîñòàâå Êðàñíîé Àðìèè è ïðîõîäèâøèõ çäåñü ñ áîÿìè. Ýòî áûëè êîììóíèñòû; Ñóâîðîâ Íèêîëàé, Ãóðîâ Àëåêñåé, Ìàëåéêî Êóçüìà, Ïîíîìàð¸â Íèêîëàé, Áðóñëàâñêèé Èëüÿ è äð. Âñåãî 7 ÷åëîâåê. Çäåñü îíè îáçàâåëèñü ñåìüÿìè, ïîëó÷èëè çåìåëüíûå íàäåëû. Îíè è ñòàëè ÿäðîì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè â ñòàíèöå è îðãàíèçàöèè îðãàíîâ å¸ óïðàâëåíèÿ. Ñ èçáðàíèåì ñòàíè÷íîãî ñîâåòà, ïåðâûì åãî ïðåäñåäàòåëåì ñòàë áûâøèé ìàòðîñ Áàëòèéñêîãî ôëîòà, ÷ëåí ïàðòèè áîëüøåâèêîâ ñ äîðåâîëþöèîííûì ñòàæåì, ó÷àñòíèê Ãðàæäàíñêîé âîéíû, Ãóðîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷. Íà Ðàòíîì êëàäáèùå ñòàíèöû Ñòàðî÷åðêàññêîé åñòü èíòåðåñíàÿ ìîãèëà. Íàäïèñü íà íåé ãëàñèò:
«Ïîëóãóöåâ Àôàíàñèé Èâàíîâè÷
Ðîäèëñÿ â 1900 ãîäó
Çâåðñêè óáèò âðàãàìè
Ñîâåòñêîé âëàñòè â 1929 ãîäó»
Ìû â ñâî¸ âðåìÿ âñòðå÷àëèñü ñ Ïîëóãóöåâûì Ãàâðèèëîì Ñåì¸íîâè÷åì 1908 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðûé âîò ÷òî ðàññêàçàë íàì î ñîçäàíèè êîëõîçà. Ïî åãî ñëîâàì êîëõîç îáðàçîâàëñÿ â ÿíâàðå 1930 ãîäà. Íîñèë èìÿ Íèêîëüñêîãî, ïåðâûì åãî ïðåäñåäàòåëåì áûë Ïîíîìàðåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷. ×ëåíû ïðàâëåíèÿ: Ïîëóãóöåâ Ã.Ñ.; Ìàìèíîâ Ï.Â.; Öåïèíà Â.Ì.; Òàòàðêèíà Î.Ì.  ñåðåäèíå ìàðòà áûëî âîññòàíèå ïðîòèâ êîëõîçîâ. Åãî ïîäàâëÿë 48 ïîëê èç Íîâî÷åðêàññêà. Öåíòð âîññòàíèÿ áûë â Àëèòóáå. Âîò êàê âñïîìèíàëà îá ýòîì æèòåëüíèöà ñò. Ñòàðî÷åðêàññêîé Ìèùåíêî Àííà Âàñèëüåâíà: «Ïåðâûìè íå âûäåðæàëè æåíùèíû. 200 æåíùèí õóòîðà Àëèòóá ïåðåïðàâèëèñü ÷åðåç Äîí è ïîÿâèëèñü ó íàñ â Ñëîáîäêå. Âñå îíè áûëè âîçáóæäåíû, êðè÷àëè, ïåðåáèâàÿ äðóã äðóãà. Íåñêîëüêî æåíùèí âîøëè ê íàì âî äâîð è ñòàëè óãîâàðèâàòü ìàòü èäòè áèòü ïðåäñåäàòåëÿ. Ìàòü îòêàçàëàñü. Îíè óâåëè ñ ñîáîé ïðåäñåäàòåëÿ ñåëüñêîãî ñîâåòà. Ïîñëå èõ âñåõ ïîñàäèëè â Íîâî÷åðêàññêóþ òþðüìó. Ïðîñèäåëè îíè íåäîëãî. Âñêîðå èõ âñåõ îòïóñòèëè».
 1933 ãîäó â ñòàíèöå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé òðàêòîð. Àêòèâèñòêîé ïðè ñîçäàíèè êîëõîçîâ â õóòîðå Ðûêîâ áûëà Àâåðêîâà Óëüÿíà Àíäðååâíà. Âòîðîé êîëõîç â ñòàíèöå áûë èìåíè Øåáîëäàåâà. Øåáîëäàåâ Á.Ï.- â 1930-å ãîäû ïåðâûé ñåêðåòàðü Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî êðàéêîìà ÂÊÏ(á). Ðåïðåññèðîâàí â 1937 ãîäó. Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ñòàíèöû äâà êîëõîçà: Íèêîëüñêèé (ëåâàÿ ñòîðîíà) è Êèðîâñêèé (ïðàâàÿ ñòîðîíà). Ïîñëå âîéíû ñîåäèíèëè â îäèí è íàçâàëè «Çíàìÿ êîììóíèçìà».
 êîëõîçå èì. Íèêîëüñêîãî áðèãàäèðîì áûë Êîçîðåçîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷. Ýòî áûëà êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíàÿ áðèãàäà, êîòîðàÿ íàñ÷èòûâàëà 75 ÷åëîâåê. Àãðîíîìîì â ýòîì êîëõîçå áûë ìåñòíûé êàçàê, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Ñàâåëüåâ Â.Ã.
 õóòîðå Çàäîí êîëõîç áûë îðãàíèçîâàí â 1929-30-õ ãã. Íîñèë èìÿ «17 ïàðòêîíôåðåíöèè». Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì áûë Áðóñëàâñêèé Ïàâåë Àðñåíüåâè÷. Çàíèìàëèñü íà õóòîðå îãîðîäíè÷åñòâîì. Íèêàêîé òåõíèêè íå áûëî. Âñ¸ äåëàëîñü âðó÷íóþ. Ïîëåâîä÷åñêàÿ áðèãàäà âûðàùèâàëà ïøåíèöó, ÿ÷ìåíü. Îáðàáàòûâàëè çåìëþ ëîøàäüìè è áûêàìè. Ñåíî êîñèëè êîñèëêàìè, õëåá ëîáîãðåéêàìè.
Ïåðâóþ ïàðòÿ÷åéêó îðãàíèçîâàë â1921 ãîäó Ñòðåïåòêîâ Ì.È..  ãîäû êîëëåêòèâèçàöèè êîìñîìîëüöàìè áûëè: Ìàò¸êèí Â.Ä., Ïîëóãóöåâ Ã.Ñ., Ïîíîìàð¸â Ãåîðãèé, Âèøíåâåöêèé Âàñèëèé, Êîâàë¸â Ôåäîð, Ñëåñàðåíêîâ Ïåòð, Ãóðáàíîâ Àôàíàñèé, áðàòüÿ Øåéêèíû Âëàäèìèð è Áîðèñ.  ïåðèîä êîëëåêòèâèçàöèè êîìñîìîëüöû áûëè ðàçäåëåíû ïî ãðóïïàì, êîòîðûå ïðîâîäèëè ýâàêóàöèþ êóëàöêèõ ñåìåé. Ñ ïîìîùüþ ðàáîòíèêîâ ðàéêîìà ïàðòèè è êîìñîìîëà, íåñëè â íàðîä èäåè ëåíèíñêîãî êîîïåðàòèâíîãî ïëàíà, îðãàíèçîâûâàëè ñîðåâíîâàíèÿ ìåæäó áðèãàäàìè â êîëõîçå. Âîò òàê íà÷èíàëîñü ñòðîèòåëüñòâî êîëõîçíîé æèçíè.
20.06.2012 ãîäà.
Íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ñòàðî÷åðêàññêîãî ìóçåÿ ßìíîâà Ò.È.
Источник
